Post silentium – включение
/parva res, magna vis – малая вещь, великая сила/
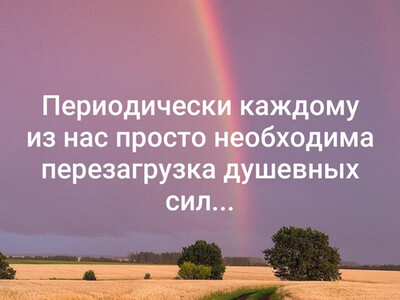 Посвящается:
Посвящается:
тем, кто знает, как тяжело быть, и как важно остаться,
тем, кто знает: не всякая тишина – пустота, не всякая пауза – остановка,
не всякий человек, сидящий у окна с чашкой в руках, – потерян. Возможно, он просто включает себя. Потихоньку. По одному щелчку. Пролог: О зонах грозы
Море не спешит, не лечит, просто дарит… тихое присутствие и баланс…
И принимает. Так, как могут только те, кто не требует ответа: «ну как ты?»…
Стоишь на берегу – и вдруг понимаешь: всё, что ты носил внутри (как груз, как долг, как обязанность быть собой) начинает опускаться.
Не уходит. Не исчезает, просто оседает.
Как песок после волны: сначала мутный, потом – прозрачный, и на дне – то, что всегда было: гладкий камень, ракушка, след чьих-то пальцев.
Море не обещает, просто тихонько плещет: «Сядь. Подожди. Я – здесь.
И ты тоже… Не всё потеряно – лишь перемещено, не всё выключено – лишь ждёт щелчка…»
…
Бывают состояния, когда человек перестаёт быть «гражданином мира» и становится местом.
Ни жертвой, ни героем. Просто местом, где что-то перестраивается.
Там, внутри, идёт ремонт: старая проводка горит, штукатурка сыплется, двери скрипят на петлях из детства. А в подвале, под слоем пыли, кто-то тихо настраивает рояль.
Эти люди – не истории. Это – зоны.
Зоны, где гроза ударила в землю – и не разрушила, а заземлила.
Поговорим о том, что часто остаётся за пределами слов:
иногда
— остаться – мужественнее, чем уйти,
— тишина может быть актом любви,
— латынь – не мёртвый язык, а язык внутренней реставрации,
— нарисованная рука на ладони – самый настоящий контакт.
I. Перед рассветом
Бывает так: больно, и всё как будто выключается. Не из злобы, нет.
Просто устаёт. Устаёт не тело даже. Устаёт смысл. И тогда человек уходит внутрь, как старый дом в туман: двери – нараспашку, окна – занавешены, а внутри – ни души, только эхо босых шагов по лестнице, ведущей вниз. В себя.
В эту ночь случилась гроза. Совсем не случайно. Гроза ведь не просто шум. Гроза – когда небо вдруг вспоминает, что оно живое. И тогда – Бабах!!!
И вспышка. И в ту же секунду – тишина… Такая, что слышно, как пылинка падает на подоконник. И человек – на грани… То ли рождается заново,
то ли уже родился и просто ещё не выдохнул.
А страх приходит не оттуда, где боль. Он приходит оттуда, где не хватило воздуха в детстве. Где не горела лампочка в коридоре, где двери были закрыты, а до туалета – как до Луны: с рюкзаком, компасом и молитвой наизусть.
Но вот чудо: сейчас – не тогда. Сейчас – фонарик в руке, тёплый плед на плечах. И мысль, как солнечный зайчик по стене: «Взрослым-то можно доверять… особенно себе».
И человек не бежит. Он встаёт. Не в панике, а как будто на встречу. Спокойно тащит табуретку, ищет щиток, щёлкает рубильником. И «ж-ж-ж», – за окном мигает фонарь, будто подмигивает: «Молодец. Не забыл.»
А утром – ни слова не вспомнить. Только ощущение: будто прошёл сквозь себя и вышел с другой стороны. Чуть легче. Чуть мягче. Как будто не выключил свет, а включил что-то внутри.
Так и живём. Не дожидаясь грозы, а встречая её, как старую знакомую: с чаем, с дыханием, с тихим «да, я здесь».
II. Мужчина и перезагрузка
Сказал бы кто: «Это нервный срыв», – и он бы кивнул, налил чай, и продолжил вытирать плинтус. Но он знал: это не срыв. Это – перезагрузка.
Как у старого ноутбука: всё работает, но греется, жужжит, и время от времени мигает синим. А потом – внезапно – рраз! И вырубается. Не сломался. Просто: нужно было.
В три ночи он встал, подумал: «Ну ладно, раз уж не спится»…И пошёл мыть пол на кухне. Мыл щёткой, на коленях. Медленно, как монах, переписывающий молитву.
Под краном лужица. Маленькая, но упорная.
Будто кухня тихо плакала, пока все спали.
Он не ругался. Не звонил. Просто налил ведро, капнул моющего (не для блеска, а для запаха: тот самый, из детства).
И начал: от угла, где батарея, к окну.
Сначала думал о пенсии. Потом – о сыне. Потом – ни о чём.
Только рука, вода, дерево, ведро.
И вдруг – мысль. Как будто она всегда ждала, когда в голове станет тише:
«Можно просто быть. Просто быть здесь собой».
Он замер. Потом – усмехнулся. Впервые за два года без горечи.
Достал из шкафа бокал (не для водки – для компота, который сам варит по воскресеньям).
Налил клюквенного, поднял за…
Ну, за тихое продолжение.
Выпил.
Вытер пол досуха.
На полке над холодильником – пыльный том в зелёном переплёте: De rerum natura. Надпись карандашом на корешке: «сыну – потом».
И лёг спать, оставив ночник гореть.
Как маяк в гавани, куда он только что вернулся.
III. Девушка и латынь
Она знала все падежи rosa. Но не знала, как удержаться, когда мир вдруг становился слишком близок.
В библиотеке это случилось на фразе «omnia mutantur, nihil interit», которая ударила не в мозг, а в солнечное сплетение.
И всё: звуки – искажены, стены – наклонились ближе, руки – чужие.
Вышла. Села на лестнице. Достала телефон.
Не звонить, а считать пульс.
И вдруг – вместо цифр – всплыла старая фраза:
«Избави мя от труса и страха».
Она не верила в Бога. Но поверила – в ритм.
В то, как «тру-са» – это два шага. А «стра-ха» – это выдох.
С тех пор, когда накатывает – она переводит.
Страх – timor.
Пустота – vacuum.
Тяжесть – pressura.
А когда становится чуть легче – levitas. Не «лёгкость», а равновесие.
Однажды написала себе на запястье ручкой: timor → levitas.
Не как мантру.
А как инструкцию: «Если сейчас timor – подожди. Скоро будет levitas».
IV. Мальчик и гардероб
Он не закричал. Просто перестал слышать. Учительница говорила, но звук был как из-под воды. Дети смеялись – смех был, но как за стеклом.
А когда включили музыку, он почувствовал: всё слишком близко.
Вышел. Сел в гардеробе, за куртками. Прислонился к стене. Закрыл глаза.
За спиной – чья-то синяя куртка, на рукаве – вышитая ракушка: белая, с лёгким розовым отливом, будто только что из воды.
И стал дышать, как учил папа: «вдох – как будто нюхаешь цветок, выдох – как будто задуваешь свечку».
Классная вошла. Не спросила «что случилось».
Просто села рядом – на пол, в пыль. И сказала:
— У меня тоже бывает. Только в метро.
Он открыл глаза:
— Вы тоже… проваливаетесь?
— Да, – сказала она. – Но потом нахожу руку… И держусь.
Он достал ручку. Нарисовал на ладони руку.
— Вот, – сказал, – Теперь у меня тоже есть.
V. Бабушка и чай
Она не жаловалась. Жалобы для слабых, а она – сильная. Воевала (в госплане – почти одно и то же). Воспитала двоих. Пережила смерть дочери.
Но вот уже месяц – каждое утро, когда встаёт, ей не хочется вставать.
Не от лени. А как будто тело говорит: «Подожди. Я ещё не собралось».
Он просто встаёт первым. Тихо ставит чайник. И наливает ей чай не в кружку, а в фарфоровую чашку с золотой каемкой. Из сервиза «для гостей».
Однажды утром она сидела, смотрела на клён за окном. И вдруг – слёзы.
Не горькие. Просто… вышли.
Он не сказал «ну, ну». Просто достал вторую чашку – тоже фарфоровую – и поставил рядом. Золотая каемка чашки отражала солнце.
А на открытке, что лежала в серванте под салфеткой («от внука, из школы»), – карандашом, чуть размытым от времени: lenta fluunt, lenta fluunt…
— Давай сегодня – чай для гостей, – сказал.
— А то что-то у нас слишком буднично стало.
Она улыбнулась. Не широко. Но искренне.
И поняла: это не слабость – сидеть и плакать над чашкой.
Это – доверие.
Доверие к тому, что рядом человек, который знает:
ты можешь не быть сильной.
Ты можешь быть – здесь.
Эпилог
Этот текст – не просто про «перезагрузку».
Он о том, как человек, переживший грозу внутри, становится проводником света для себя самого. Как та самая чашка для гостей, поставленная в будний день: ненужная с практической точки зрения и абсолютно необходимая с человеческой.
Он не о спасении, а о признании: боль – не провал, пауза – не остановка, быть – уже достаточно.
Гром прошёл. Свет включили. Пол вымыли. Чашку поставили.
Руку нарисовали.
Ни одна из этих историй не заканчивается победой.
Они заканчиваются – продолжением.
Потому что самое трудное – не выдержать шторм.
Самое трудное – остаться. Не в смысле «терпеть».
А в смысле: не выключить себя.
Включение - постскриптум тишины.
И если вы дочитали до сюда, может, пальцы уже касаются запястья, а взгляд отрывается от страницы и замечает луч света на полу, пар над чашкой, занавеску,
что колышется, как флаг на ветру с моря. Руки лежат на коленях – приятно тяжелые. И вдруг – вдох чуть глубже: не для силы, а потому что тело вспомнило:
оно здесь, на берегу самого себя.
Может, рука потянется к чайнику, к окну, чтобы впустить этот ветер. Или просто потянется, медленно, без цели, лишь чтобы почувствовать: суставы ещё помнят,
как быть живыми. Подобно тому, как песок после волны – сначала мутный, потом прозрачный, и на дне – то, что всегда было.
И в этом движении, в этом дыхании, в этом свете – уже щелчок. Не громкий.
Не начало новой жизни, а продолжение этой. Той, что идёт, даже когда кажется, что всё выключено.
Тихий. Настоящий. Как первый глоток воздуха после долгого сна.
Как чашка для гостей в будний день.
Или нарисованная рука на ладони.
Или levitas, которая приходит после timor.
Потому что лучший финал – тот, который ты сам/а ощущаешь как правду в теле.
Не как идею или надежду. А словно солёный привкус на губах.
Тепло в ладонях. Шаг по лестнице вниз, в себя. Тихое: «Да, я – здесь».
Или – что, может, ценнее – просто молчание в этом пространстве, где lenta fluunt…,
и море плещет за окном, и одна лампочка уже горит.
Ты уже включил/а свет.
Остальное – тихо идёт.
сентябрь-ноябрь 2025 P.S.
1/ omnia mutantur, nihil interit – Всё меняется, ничто не исчезает (лат.), из «Метаморфоз» Овидия
2/ lenta fluunt… – «медленно текут…» (лат.) – не жалоба на медленность времени, а его благословение.
В медленности – возможность не пропустить щелчек.
Это часть фразы из Овидия (Tristia IV, 3), где полная строка:
lenta fluunt, lenta fluunt tempora
«медленно текут, медленно текут времена» – или, мягче:
«время течёт медленно, медленно…»
3/ De rerum natura
Дословно: «О природе вещей»
Устоявшийся русский перевод названия книги Лукреция. .
.
.
Ашомко Ирина Львовна_психолог_Нижний Новгород/Россия/весь мир онлайн
системный семейный консультант, член ОППЛ,
EMDR, iEMDR, ЭОТ, ЭФТ, КПТ, ДБТ, ТГТ, FSAP, ImTT, IFS/IFIO 2level, психодрама, психотравматология, гештальт, гипнотерапия, работаю с ранней травмой, ДММ, ЛОРП
https://vk.com/wall474042686_2244 Мгновения для души_психолог_Ашомко Ирина
https://t.me/+fDCq2yMmkCxmNTcy


И спасибо за Ваш искренний отклик.
Вы поделились опытом, и это ценно. Особенно то, что Вы сказали о силе, терпении
и любви. И о том, что истинная помощь начинается не со слов, а с готовности войти
в чужую боль и соприкоснуться с ней, не спеша вытаскивать, не отвлекая
«правильными фразами», а просто будучи рядом как есть.
Вы совершенно правы: никакой текст сам по себе не исцеляет.
И при написании этих миниатюр у меня не было задачи «вывести из стресса»,
«оздоровить», «настроить на позитив» или даже «утешить».
Такие тексты легко становятся красивой упаковкой для одиночества.
Это не гипнотический сценарий. Этот текст – эхо от встреч: с людьми, с тишиной
после слов, с моментами, когда речь уже невозможна, но присутствие ещё работает.
Миниатюры – следы на песке после ушедшей волны: не инструкция, не руководство,
просто «вот здесь кто-то стоял. Дышал. Ждал щелчка.»
Каждая такая встреча в консультировании уникальна. И помощь там рождается не из
шаблонов, а из со-настройки душ: в этот час, в этом состоянии, с этим
человеком, здесь и сейчас. Это живой диалог, а не монолог, даже самый тёплый.
Миниатюры же – вне этого диалога.
Они уже после.
Как если бы после сессии, вернувшись домой, Вы вдруг услышали в себе отголосок
чужого дыхания и положили его на бумагу, не для того, чтобы повторить, а чтобы
сохранить форму доверия, в которой однажды прозвучало: «Да, я здесь».
Вы не задели – осветили Ваше понимание.
И мне (как автору) оно интересно.
С благодарностью и уважением,
За искренность, доверие, ту честность, с которой говорите о себе и о других.
В самом сердце психотерапевтического процесса лежит внутреннее состояние человека в конкретный момент. Оно определяет, как он видит мир.
Одно реальное событие – для одного – повод для надежды, для другого – подтверждение безысходности.
И это не «неправильное восприятие», а реальность, отфильтрованная через пережитый опыт, уровень усталости, глубину одиночества, меру доверия к жизни.
Мир сам по себе не «хороший» и не «плохой». Живой. А мы входим в него с разной степенью открытости, боли, ресурса. И потому видим разное.
Травма, пока не прожита, не интегрирована – работает как кривая линза. Не врёт – защищает. Увеличивает угрозу до размеров Вселенной. Уменьшает опору до едва различимой точки. Искажает не из злобы, а из древней стратегии: «Если я буду видеть мир опасным – не расслаблюсь. И, может быть,
выживу».
Но эта защита имеет цену. И однажды человек чувствует: «Я выжил. Но не живу».
И тогда, как у той женщины, приходит лист бумаги. Не план спасения.Не молитва. Просто возможность заговорить с собой. Даже «глупо». Даже «бессвязно». Потому что честный разговор с собой – уже движение к целостности.
И да, настоящую правду о себе знает только сам человек. Никто не может её «дать». Только освободить пространств*, чтобы она могла прозвучать.
А помощь профессионала здесь не как «мастер-ключ», а как со-присутствие: без спешки, без интерпретации за другого, без страха тишины, с умением быть рядом, даже когда боль кажется безвыходной.
И учат этому долго. И не каждый, кто прошёл обучение, способен быть таким человеком, потому что это требует не только знаний, но и личной проработки, эмоциональной зрелости, умения не брать чужую боль на себя и не отталкивать её. Это зависит от личности консультанта. От его способности оставаться собой и при этом быть доступным клиенту.
А ваше «Дай Бог отдышаться успеть» - звучит как молитва.
И вы, имхо, не случайно выбрали второй рассказ.
Потому что иногда нам не нужны инструкции. Нам нужно увидеть: кто-то прошёл похожей тропой. И не развалился. Кто-то держал вруках тот же хрупкий зонтик, ту же боль, ту же надежду и продолжил.
Вы уже в этом движении.
Дышите.
С глубоким уважением,
С Наступившим!
Радости и всего самого уютного!
На мой взгляд рефлексию необходимо выдавать маленькими порциями. Это как взять кусочек и посмаковать его. Покатать и насладиться, сделать маленький глоток чая. И не спеша насладиться вкусом.
И эпилог я бы не стала оставлять, разжевывать за читателей. Но это мое мнение.
Если цель была, как рука помощи то да, если в рамках художественного осмысления, то убрала бы его.
Это серия миниатюр. Не единый поток, а отдельные остановки.
Это как пить чай, слушать истории и смотреть на море за окном: посмотреть на воду, подождать, пока ветер унесёт одну мысль и принесёт другую.
Чтение здесь – не марафон, а ходьба босиком по мокрому песку: можно идти
медленно, останавливаться, смотреть в окно, и в это же время, в своё сердце, в
свою жизнь. Каждая часть – как глоток чая: достаточно, чтобы согреть, но не насытить.
Чтобы оставить место для паузы, для вздоха, для собственного Omnia mutantur (Всё меняется), которое вдруг всплываетне не в тексте, а между строками… В Вас самих.
И да – это диалог.
Не «я говорю – Вы слушаете», а «я кладу камешек на берег – Вы решаете, поднять
его или оставить лежать».
Миниатюры не для того, чтобы объяснить, а чтобы подсветить уголок и отойти в
сторону.
А эпилог… Он не вывод. Он (имхо) – авторская пауза.
Как если бы после чаепития я осталась за столом, а Вы вышли на балкон, и вдруг
услышали, как я тихо, почти про себя, продолжаю:
«…вот, что это было для меня».
Не назидание. Не ключ. Просто ещё один голос в тишине.
Ваше право его не слушать.
Но и моё – его оставить.
Спасибо, что прочитали. И что поделились своим ритмом.
Он очень важен.
С теплом,
Мне же было скучно и сложно читать.
Мало связей увидела. Ничего в душе не откликнулось. Есть очень удачные фразы и мысли, но в целом, у меня не сложилось впечатления завершённости и объёма. Больше для автора, чем для читателей, показался текст.
И в этом нет ни ошибки, ни диссонанса. Просто так бывает.
Вы подметили важное: в нём мало связей, мало объёма, нет той завершённости, что даёт ощущение опоры. Возможно, потому что сама тема – не о завершённых историях, а о паузах между ними: о том, как человек пока ещё не может рассказать, но уже не молчит. О том, как иногда нужно просто сидеть у окна с чашкой, не объясняя, зачем.
И всё же – даже если внутри ничего не откликнулось… Ваше «ничего» само по себе звучит.
Оно честное. Оно имеет вес.
Иногда тишина – тоже отклик.
Иногда пустая чашка – уже ответ.
А иногда достаточно, что Вы подошли к окну и посмотрели.
Спасибо, что прочитали. И что сказали.
С теплом,
Ирина Ашомко
Красиво написано
и спасибо вам — от души.
Ваши слова: «каждая миниатюра похожа на код исцеления» - тронули меня особенно.
Да, иногда слово действительно становится программой, которую мы запускаем внутри себя и других. Не для исправления, а для раскрытия, для возвращения к тому, что уже есть, но ждёт своего звука.
«Отстранённо, но по-настоящему» — да.
Имхо, это та тонкая грань, где чувствуется и боль, и свобода от неё; где можно смотреть на переживание не как на рану, а как на узор — сложный, но не разрушающий.
Благодарю за доверие к тексту и за то, что Вы прочли — не просто пробежали глазами, а почувствовали ритм.
Пусть и в Вас звучит что-то своё — настоящее.
С теплом, Ирина
Лучше туда не попадать.